
Предлагаем вниманию читателей размышления И. А. Забежинского, которые были опубликованы в интернет-издании "Правмир" в 2016 году.
Меня в редакции попросили про военную книжку какую-нибудь написать к 9 мая. Я к 9 мая не стал. Не ко времени. Решил, к дню памяти Бориса и Глеба.
Книжка, которую я выбрал, созвучна названием одному нашему военному бестселлеру. У нас он называется «Живые и мертвые». Его Константин Симонов написал. И там все, в этой книжке, про праведную войну, про войну священную, наших против ненаших, хороших против плохих.
А у них, у немцев, есть книжка «Время жить, время умирать». Написал Эрих-Мария Ремарк. И в ней все про войну неправедную, ненаших против наших.
Вроде бы, это и понятно. Симонов со стороны наших пишет. А Ремарк – со стороны ихних. По определению, он не может про праведную.
Там, у Ремарка, вот в чем суть. Главный герой воюет в России. Он прошагал пол-России, пол-России разрушил, уничтожил, и множество русских людей поубивал. Потом он едет в отпуск к себе на Родину, в Германию, а это уже 43 год, судя по всему. И там наши уже достаточно уверенно бомбят немецкие города. И от этих бомбежек гибнут простые мирные немцы. Многие ранены, многие без крова остаются. А многие действительно гибнут. Но героя эти факты не ужасают и не кажутся ему несправедливыми. Настолько не кажутся, что он смиренно и безучастно, и я бы даже сказал, с готовностью и сам ждет себе такого конца.
Почему? Потому что он, главный герой, думает о том, что вся неправда, вся грязь, все разрушения, вся смерть, которые он и его соплеменники немцы принесли в Россию, заслуженно возвращается к ним самим. Заслуженно!
Да, там еще замечательная любовная линия есть, может быть, она даже и главная, я читал о ней с удовольствием. Но мне интересными были именно вот эти рассуждения о войне участника войны против наших со стороны ненаших, плохих. Вот это вот неожиданное, для плохих, христианское «Достойное по делом нашим приемлем», что в христианском понимании и означает истинное покаяние и прямехонькую дорогу в Царство Божие.
И совершенное отсутствие в наших книгах, написанных нашими, совершенное отсутствие этого вот покаянного настроения. Нам не в чем каяться.
Я Симонова очень люблю, с детства. Роман этот его, он просто родной для всех нас. Герои его – нам родные. Но там ничего про покаяние нет. Ведь там же наши хорошие громят ихних плохих, тем более, ихние плохие первыми и начали. При чем тут «покаяние»?
А у Ремарка весь роман, мне кажется, именно про покаяние, про то, что «Достойное по делом нашим приемлем». В нашем, написанном хорошими про хороших, — про Победу и Героизм. А в ихнем, написанном про плохих, — про покаяние и путь в Царство Божие.
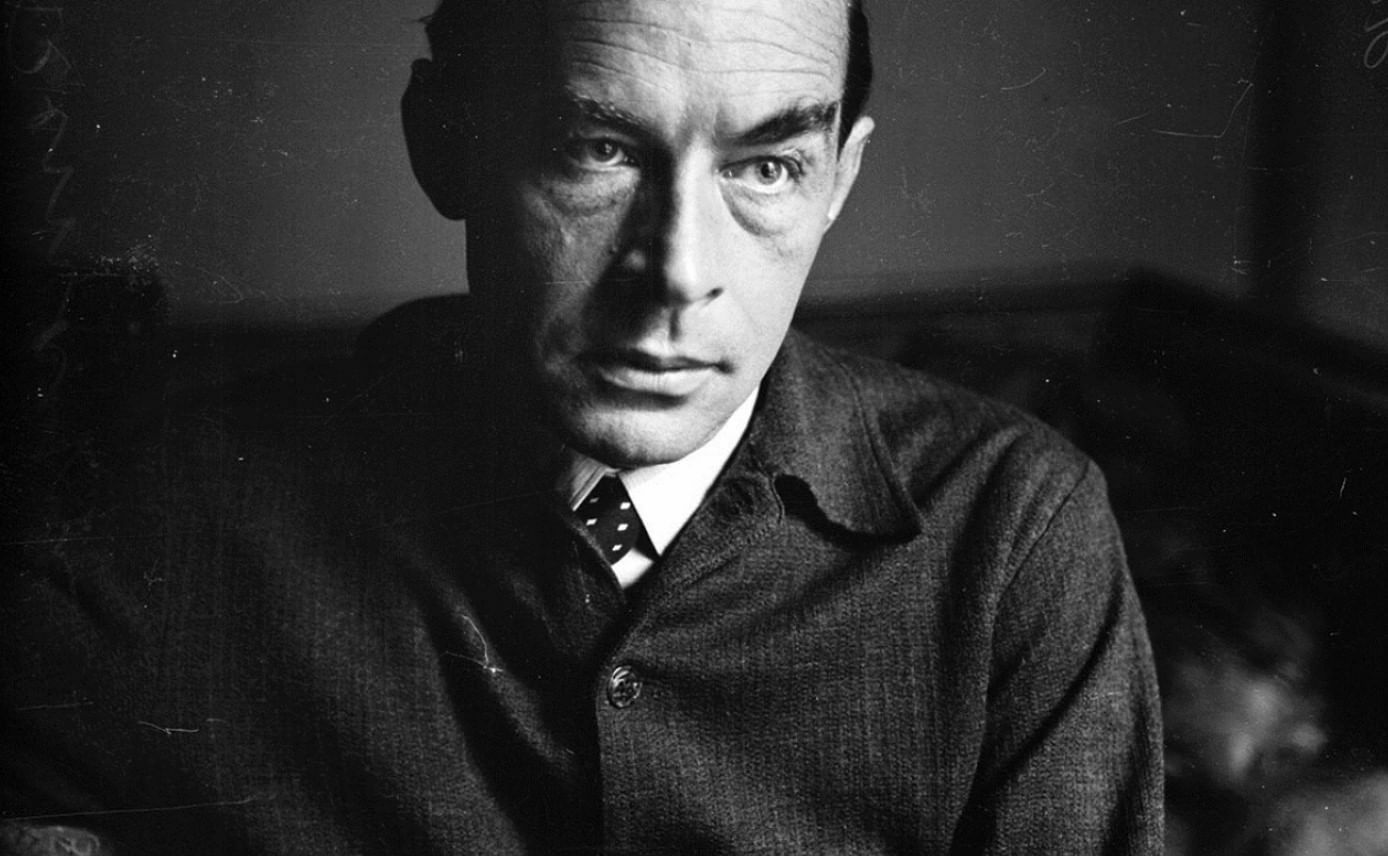
Мне это тем более интересно, что когда я читаю у Ремарка про рушащиеся от наших хороших налетов мирные дома, про страдания и смерть мирных жителей, мне не дают покоя образы живых настоящих людей. И не тех, кого убивали, а тех, кто убивал.
Я знал одного летчика, он был другом моих родителей, он мирный был такой пожилой толстогубый еврей. Трудно было представить в нем человека, который когда-то бомбил Германию, ладно и кучно клал бомбы в цель и тем самым приближал нашу Победу.
Да что далеко ходить, мой папа покойный был артиллеристом, командиром батареи, и брал столицу Австрии. У нас дома его ордена и медаль «За взятие Вены» в книжном шкафу выставлены. Мы когда с детьми приезжаем в Вену, на другой же день я командую: «Пойдемте-ка, ребята, к дедушке сходим» — это памятник Советскому Солдату с золотым шлемом на голове на Шварценбергплац.
И я понимаю, что мой папа артиллерист 70 лет назад наяривал из всех своих полковых орудий по близлежащим прекрасным венским домам, из которых вываливались в окна, в которых горели заживо, были задавлены перекрытиями, посечены осколками, просто убиты от разрывов наших праведных снарядов, которыми стрелял мой папа, безвинные старики, женщины, дети.
Понятно, что всему этому есть оправдания. Наверняка там, в этих домах, прятался какой-нибудь плохой ихний гитлерюгенд с пулеметом или с фаустпатроном. И этот плохой гитлерюгенд собирался убить множество хороших наших, которые пришли освободить всех этих мирных стариков, женщин и детей, тоже прячущихся в этом доме, от нацизма, но теперь просто вынуждены были некоторое количество из них поубивать, чтобы освободить от гитлерюгенда. Да что там говорить, эти плохие из гитлерюгенда ведь и папу моего тоже хотели убить. И папе ничего больше не оставалось кроме как стрелять по гитлерюгенду и по мирным. И папа, убивая их, тоже приближал нашу Победу.
Много, знаете ли, есть в нашем околопобедном обиходе выражений, которые должны бы всякое чуткое христианское ухо настораживать:
«Святая месть»,
«Святая ярость»,
«Святая ненависть»,
«Священная война».
Хотелось бы понять, а есть ли вообще «праведная война»? Как определить, праведная наша война или нет? И кто, вообще, это определяет?
Понятно, они плохие, они агрессоры, они первые начали, они нас убивали, они убивали наших мирных жителей, в этом была не просто бесовская жестокость. В этом была бесовская жестокость на 10 процентов и неправедная рациональность на 90 процентов — им нужно было победить, и они не стеснялись в средствах для достижения своей неправедной цели. Может быть, даже 40 на 60. Или пускай, 80 на 20. То есть 80 процентов бесовской жестокости и 20 процентов неправедной рациональности.
Да, мы — добрые. Мы — не они. Мы тоже бомбили их города, мы разрушали их мирные дома, их женщин, стариков и детей убивали, оставляли без крова. Но мы делали это в ответ. Чтобы прекратить их бесовскую жестокость и их неправедную рациональность. Допустим, в наших действиях не было бесовской жестокости. И рациональность наша была чистая и праведная. Мы тоже не стеснялись в средствах. Но цель наша была праведная. Мы приближали победу хороших над плохими. И поэтому убивали, в том числе и безвинных.
Чем, скажите, результаты нашей праведной рациональности лучше результатов ихней бесовской жестокости?
Когда начинаешь вслух задавать все эти дурацкие вопросы, реакция на них почему-то всегда достаточно агрессивная. Как будто в самом их задавании уже есть какое-то врожденное зло.
Ну и набор аргументов и ответов на такие вопросы у нас обычно стандартный.
Сначала про Александра Невского тебе говорят.
Потом про Сергия Радонежского.
Затем, в подкрепление всего, из Евангелия «Нет выше той любви, как если кто положит жизнь свою за други своя».
Ну, и в довершение, главный аргумент — «Ты что, пацифист?»
Я бы, прежде всего, хотел сказать про Евангельский аргумент. У нас ведь евангельское «положить жизнь свою за други своя» почему-то переводится так: «убивать чужих, чтобы защитить своих». Всегда «за други своя» — это у нас почему-то не защита права пойти и самому умереть, а защита права пойти и убить других, защита права на «праведное» убийство. Защита праведной рациональности.
И потом всегда можно сказать в свое оправдание:
— Да. Этот мир — греховный. Этот мир — падший. В нем по-другому нельзя. Добро должно быть с кулаками.
Да пускай оно будет хоть сто раз с кулаками, но при чем тут Евангелие?
И вот тут я жду всегда главного аргумента:
— Вы что, предлагаете нам каяться? Нам? Победившим фашизм? Каяться? Нам каяться не в чем! Не смейте нас сравнивать с ними! Мы — не они! Они первыми напали! Они хотели уничтожить нас, как народ! Это была коричневая чума! Мы положили ей конец! Не смейте говорить хоть о каком-нибудь покаянии!
Это было в 1990 году. Моя жена с хором девочек (в качестве одной из девочек) съездила в Германию, в город Висбаден. Ровно через год немцы, у которых она гостила, приехали по путевке в Ленинград. Это был еще Советский Союз, самый-самый его конец. Жена много рассказывала мне, как немцы ее принимали, как развлекали, как помогали, а времена были тогда у нас нелегкие, а немцы и одели ее и продуктами тоже. И вот, мол, давай примем их красиво, со всем нашим русским хлебосольным радушием.
И тут вдруг я встал на дыбы.
— Я не хочу их принимать. Я не хочу с ними встречаться. Я не хочу быть для них хлебосольным. Это — немцы. Они враги. У меня половина родни моей в блокаду погибла. Другая половина в Белоруссии в еврейском местечке заживо похоронена. У меня отец всю войну прошел. Он умер, имея в легком осколок. Не хочу, и все. Они проигравшие. Мы? Мы — победители. Сама с ними целуйся!
Дааа… Ну, жена меня, конечно же, утихомирила, внушила, уговорила. Да и вообще мы, русские, отходчивые. И вот эти немцы приехали. Чуть старше наших родителей. Родились перед самой войной. Добродушные. Заботливые. Немного грустные. Подарков нам навезли…
Тут, конечно, надо сказать, что наша туротрасль в советские времена их не щадила. В первый же день на обзорной экскурсии по городу их отвезли на Пискаревское кладбище. В Петергофе и Пушкине демонстрировали фотографии развалин. Следы осколков на колоннах Исаакия. Ну и мимо голубой таблички с белыми буквами на Невском тоже не проехали.
Дня через четыре они серьезно переглянулись так и предложили:
– А давайте вечером на концерт народной музыки не пойдем, а просто посидим в холле нашего отеля, попьем кофе, поговорим.
Ему было лет пятьдесят. Высокий. Широкоплечий. С густыми седеющими усами. Комиссар полиции. Звали его Манфред. Она была чуть моложе. Крашеная, горбоносая. Продавщица универсального магазина. Гизелла.
Они мялись так, мялись. Немножко вокруг, да около. Наконец. Решились:
— Мы хотели бы поговорить с вами о войне, — и откашлявшись, — мы хотели бы попросить у вас прощения. Мой отец погиб в 41-м под Смоленском. У Гизеллы — ближе к концу войны под Киевом. Мы понимаем, что все это было неправильно и ужасно. Наши отцы убивали ваших отцов и дедов. Наши отцы убивали ваших мирных жителей. А мы чувствуем вину на себе. Поэтому мы очень хотим что-то для вас сделать. Чем-то вам в это нелегкое время помочь. И поэтому ваше понимание и прощение для нас так важны.
Я был пацан. Мне было тогда неполных двадцать четыре. У меня дома стояли папин портрет и его три боевых ордена и три медали, прикрученные к куску гобелена, срезанного в 1945 в каком-то из Венских королевских дворцов.
У Манфреда были слезы в глазах. У меня — комок в горле, и пафос мой победный куда-то совершенно исчез.
Мы сидели голова к голове. Я крепко держал его за руку. Жена обнимала дрожащие плечи Гизеллы…
А вот одна недавняя встреча. Минувшим летом мы гостили у чудесного Питера в маленьком курортном Фельдене в Южной Австрии. Питеру 66 лет. Он седой, коротко стриженный, щедрые усы под носом.
Его отец тоже воевал. У них у всех отцы и деды воевали. И воевали не на правой стороне.
И вот мы сидим на веранде его старого дедовского дома в яблоневом саду. Пьем холодное белое вино. Ленивый шмель ползет по скатерти. А он снова и снова пытается втолковать мне.
— Мы виноваты. Мы осознали, что мы виноваты. И для нас многие идеи стали вторичны. Даже не просто вторичны — невозможны! Национальная идея, например. Национальное величие. Великая Германия… Это все блажь! Мы осознали, что от этого только одни беды! Вот есть мой дом. Моя семья. Мои дети. Есть Бог. Надо слушать Бога и стараться делать то добро, которое ты можешь делать. Есть вещи, которые кажутся невозможными, противоестественными. Но их все равно нужно делать.
— Как?! — кричал ему я после нескольких бокалов вина. — Как вы, европейцы, можете пускать к себе мигрантов?! Это же разрушение всего, всех основ культуры и традиции!
— А что нам делать? — тихо спрашивал Питер, — Мы пытались к этому относиться по-другому — «Германия — для немцев». Ты знаешь, чем это закончилось. В наших мозгах произошел переворот, понимаешь? Полный переворот. Мы просто должны немножко хотя бы забыть о самих себе и думать о других. «Другие»! Ты понимаешь, как это важно! Нужно любить и щадить других, а не себя. Любить их так, как будто они — это мы, как самих себя — так, по-моему, Христос говорил. Иначе — конец. Иначе — война. Мы этому свидетели. И вы этому свидетели.
Он помолчал.
— Ты знаешь, как закончился проект «Великая Германия», когда нас поставили сначала на колени, а потом мы с них стремительно поднимались, отвечая всему миру сторицей за унижение и за наше попранное величие, — он посмотрел мне в глаза, — Вас тоже недавно поставили на колени. Тоже разделили вашу страну. Тоже попрали ваше былое величие. Вы не боитесь того, чем может теперь окончиться ваш проект «Великая Россия»?
Он еще помолчал и улыбнулся.
— Что вам покоя не дают наши мигранты? Разве вы не христиане? Кто, вообще, такие эти мигранты? Разве они не дети Божии? Не страдающие дети Божии? Для чего нам все это наше хваленое благополучие тогда, если мы не поделимся с теми, кому плохо сейчас?
— Но они же вас сотрут? Ты не понимаешь? Сотрут!
— А ты хочешь, — он внимательно посмотрел на меня, — Ты хочешь, чтобы вышло наоборот, чтобы мы стерли их?
И была в этом взгляде какая-то обреченность. Обреченность ремарковского страдающего героя. Обреченность человека, выбирающего добровольно поражение, но поражение не от трусости, а от силы, от внутренней великой правоты, поражение от верности Истине.
Я думал потом, перечитывая Ремарка и вспоминая слова Питера «переворот в мозгах»:
— По-гречески это звучит «метанойя», «перемена ума». На русский переводится словом «покаяние».
Один современный российский выдающийся политический деятель, считающий себя христианином, на одной художественной выставке остановился перед телекамерами возле картины, изображающей убиенных Бориса и Глеба.

— А вот Борис и Глеб, хотя и святые, но страну отдали без боя, — сказал он, глядя на полотно, — Просто легли и ждали, когда их убьют. Это не может быть для нас примером…
Вот это «хотя и святые» — оно очень умилительно из христианских уст. Потому что, именно потому они и святые, Борис и Глеб, что отдали власть без боя. Оттого и святые, что, имея силу и власть, предпочли добровольную смерть. Оттого и святые, что не мерками мира сего захотели жить, а жительствовать жизнью Христовой. Который мог призвать от Отца легионы ангелов Себе не помощь, и не призвал. Мог сойти с креста и посрамить, и даже просто растерзать, уничтожить всех своих неправедных мучителей и губителей, а не стал. Да еще и многих гонителей Своих не просто пощадил, но привел потом к Себе, возвысил и сделал Своими друзьями и наследниками.
Борис и Глеб начинают удивительный ряд святых, возникший именно на русской почве — святых страстотерпцев. До совсем уж недавнего времени наша Церковь практически не прославляла в лике святых правителей и государей за их политические достижения. Либо святость жизни, либо — мученическая смерть.
Русская святость вообще начинается со святости этих самых князей страстотерпцев, которые просто дали себя убить, решили крови ничьей не проливать и умереть по образу Христову — «легли и ждали, когда их убьют». Дальше идет ряд князей, которые, как мы говорили, либо мученики, либо праведники. Дальше, среди русских царей, когда государство наше окрепло, возмужало, стало все больше и больше расширяться, среди царей вообще нету святых. Даже среди самых значительных, успешных, заслуженных, которым толстые учебники посвящены.
А вот заканчивается у нас всякая великокняжеская и царская святость как раз на последнем российском государе, императоре Николае Втором, прославленном опять же не за его заслуги государственные и даже не за святость жизни. А за то, как он умер. Взял, добровольно отказался от всемерной власти, которой обладал, от всяческого насилия отказался, на которое имел право, просто взял и добровольно дал себя убить.
Я поясню, наконец, почему вдруг я про Бориса и Глеба речь завел и про последнего государя. Они не воспользовались своим правом на «праведное убийство», на «праведную войну». Как Христос этим правом не воспользовался, так и они не воспользовались. А если бы воспользовались, был бы им всемерный исторический «респект и уважуха» от благодарных потомков, и тома учебников. А так — всего-навсего Царство Божие.
Не знаю, получится ли у меня без выводов. Я сам не знаю, какие должны быть выводы.
После Ремарка, после немецких фильмов о войне, после встреч с грустными и очень мудрыми глазами попадавшихся мне немцев и австрийцев снова и снова понимаешь, через какой стыд и покаяние они прошли и продолжают проходить. «Согрешили мы тяжко перед Богом и перед людьми. Теперь мы перед всеми в долгу…» — это говорил мне Питер, старый австрийский католик.
Я прислушиваюсь к самому себе и не могу понять: откуда же все-таки ближе до Царствия Божия?
От «Простите нас за наших отцов» или от «Будем гордиться славой наших отцов!»?
От «Мы принесли столько горя невинным людям» или от «Наше дело было правое, по-другому было не победить!»?
От «Нам не в чем каяться. Это была священная праведная война!» или от «Согрешили мы перед Богом и перед людьми и теперь достойное по делом нашим приемлем»?
Да, в конце концов, что нам — немцы? У нас свои есть, родненькие, Борис и Глеб.
Легли и ждали, когда их убьют. За то и прославлены.
Какое всему этому можно найти практическое применение, я не знаю.
Изображения: открытые интернет-источники